Казуо Чиба: Айкидо особым образом связывает тело и душу
Казуо Чиба сэнсей (5 февраля 1940 – 5 июня 2015)
Интервью изданию Aikido Journal в апреле 2004 года
(читать оригинал)
В возрасте 18 лет молодой Казуо Чиба увидел в книге фотографию Морихея Уэсибы и сразу понял, что его поиск настоящего мастера будо завершен. Сейчас Чиба-сэнсей является обладателем 8 дана и старшим инструктором Айкикай в Сан Диего. В этом интервью Чиба вспоминает истории времен своего обучения в качестве учидеши, подробно объясняет концепцию шу-ха-ри, а также рассуждает о своих взглядах на современное айкидо.
Интервью изданию Aikido Journal в апреле 2004 года
(читать оригинал)
В возрасте 18 лет молодой Казуо Чиба увидел в книге фотографию Морихея Уэсибы и сразу понял, что его поиск настоящего мастера будо завершен. Сейчас Чиба-сэнсей является обладателем 8 дана и старшим инструктором Айкикай в Сан Диего. В этом интервью Чиба вспоминает истории времен своего обучения в качестве учидеши, подробно объясняет концепцию шу-ха-ри, а также рассуждает о своих взглядах на современное айкидо.
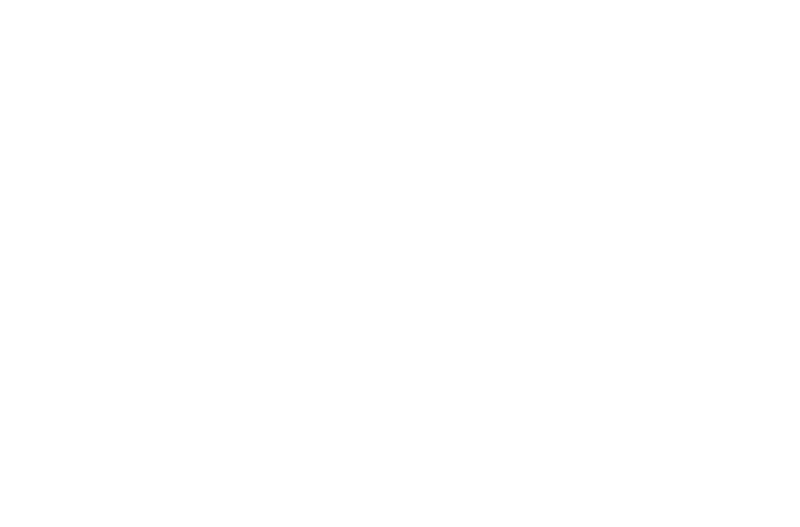
vAikido Journal: Сэнсей, насколько я знаю, вы начинали свой путь в боевых искусствах с дзюдо и лишь потом перешли в айкидо. Не могли бы вы чуть больше рассказать о тех временах?
Казуо Чиба: Мне очень нравилось будо и особенно – дзюдо. Но вот однажды мне предстоял поединок с одним из моих «старших коллег», обладателем степени нидан к тому моменту. Он был очень неплохим человеком и многому меня научил в дзюдо с момента, когда я впервые перешагнул порог зала. Мы также поддерживали хорошие отношения и за пределами додзе. Он был небольшого роста и веса, но у него была великолепная техника дзюдо; он легко бросал более крупных соперников. Он применял много тай отоси (броски из стойки) и йоко сутеми (техники с падением атакующего на бок) – такого уровня, который сейчас редко встретишь. И он был очень быстр!
Он все время меня побеждал. Но в тот раз по какой-то причине мне удалось победить его в качинуке сиай (поединок, в котором дзюдоист борется до тех пор, пока не будет побежден; тогда победитель занимает его место). Он очень тяжело воспринял это поражение и сказал: «Я больше не могу победить тебя в дзюдо, но у меня есть кендо!» (у него была 2 мастерская степень и в этом виде).
Однажды он пришел ко мне домой и велел выходить, потому что хотел сразиться со мной в кендо. К тому времени я занимался дзюдо и каратэ, а вот опыта в кендо у меня не было. Но я решил, что уж что-то наверняка должно получиться, и согласился. Мы оказались на пустыре. Мой старший товарищ позволил мне гандикап: я сражался деревянным мечом, бокеном, тогда как у него в руках был только бамбуковый синай. Он двигался так быстро, что я никак не мог достать его. А синай регулярно впивался в мою плоть. В конце концов я был порядочно избит.
Этот случай впервые заставил меня по-новому взглянуть на будо. Разочарованный, я перестал ходить на занятия по дзюдо и стал размышлять. Получалось, что даже если я буду усердно заниматься дзюдо, добьюсь высоких результатов в этом виде борьбы и буду совершенно уверен в своих техниках, все равно остается шанс, что я проиграю бой в кендо кендоке, едва получившему мастерскую степень. И наоборот: даже состоявшийся тренер по кендо, реши он по какой-то причине надеть нашу форму и выйти на бой в нашем додзе, вероятнее всего уступит мне в дзюдо, независимо от своих регалий в мире кендо.
Я много размышлял на эту тему и пришел к выводу, что в этой системе чего-то не хватает, что где-то в ее основании есть ошибка: настоящее будо – это что-то иное.
Я был уверен, что настоящий мастер будо должен быть способен на адекватный ответ вне зависимости от обстоятельств. Будь это бой меч против меча или любой другой. Вот с таких простых вещей я и начал рассуждать об истинной сути будо.
Поскольку я не знал, где найти то будо, которое мне было нужно, я перестал заниматься какими бы то ни было боевыми искусствами примерно на полгода. Я должен был найти учителя, способного дать мне то, что я искал…
А потом однажды я увидел в книжном магазине книгу про айкидо. Внутри была небольшая фотография О’Сэнсея. Я сразу же понял, что нашел своего учителя. Тогда я не знал практически ничего о техниках айкидо, но это было неважно. Внутри была уверенность: «Я нашел то, что искал! Этот человек понимает то, что беспокоило меня все это время». И я пошел в додзе Уэсибы-сэнсея (довольно самонадеянно, надо признать, ибо никакого приглашения у меня не было), чтобы просить его взять меня в качестве учидеши как можно скорее. Вот так я и пришел в айкидо.
Сколько вам было лет?
Я только что закончил школу к тому моменту, так что около 18. Уэсиба тогда жил в Иваме и нечасто бывал в Хомбу Додзе. Но я был настроен сидеть перед входом до тех пор, пока мне не разрешили бы стать учидеши. Я так и поступил: пришел и ждал возможности с кем-то поговорить. Была середина февраля (1958 года) и на улице было холодно. Кажется, ученики и персонал Хомбу Додзе считали меня сумасшедшим. Через три дня приехал О’Сэнсей. Видимо, вака-сэнсей Киссомару сообщил ему, что у входа сидит какой-то странный человек, и спросил, как следует с ним поступить. О’Сэнсей распорядился пропустить меня – и так я получил возможность встретиться с ним. Я остановился в холле перед комнатой О’Сэнсея и опустился на колени в формальном поклоне. Когда я поднял глаза, я понял: «Все получится!»
О’Сэнсей предупредил: «Обучение будо потребует полной отдачи. Ты уверен, что справишься?» Я сказал, что абсолютно уверен. И тогда он ответил: «Хорошо». Это была очень простая и короткая встреча.
Следующие 7 лет вы провели в качестве учидеши в Хомбу Додзе…
Да, и на протяжении этих 7 лет не было ни одного дня, который показался бы мне развлечением. По крайней мере, в то время точно нет. Сейчас я с удовольствием вспоминаю те годы, но тогда они были для меня полными трудностей. С другой стороны, это был путь, который я сам избрал для себя, меня никто не принуждал это терпеть. И в этом смысле, несмотря на сложности, я считаю, что мне очень повезло.
Казуо Чиба: Мне очень нравилось будо и особенно – дзюдо. Но вот однажды мне предстоял поединок с одним из моих «старших коллег», обладателем степени нидан к тому моменту. Он был очень неплохим человеком и многому меня научил в дзюдо с момента, когда я впервые перешагнул порог зала. Мы также поддерживали хорошие отношения и за пределами додзе. Он был небольшого роста и веса, но у него была великолепная техника дзюдо; он легко бросал более крупных соперников. Он применял много тай отоси (броски из стойки) и йоко сутеми (техники с падением атакующего на бок) – такого уровня, который сейчас редко встретишь. И он был очень быстр!
Он все время меня побеждал. Но в тот раз по какой-то причине мне удалось победить его в качинуке сиай (поединок, в котором дзюдоист борется до тех пор, пока не будет побежден; тогда победитель занимает его место). Он очень тяжело воспринял это поражение и сказал: «Я больше не могу победить тебя в дзюдо, но у меня есть кендо!» (у него была 2 мастерская степень и в этом виде).
Однажды он пришел ко мне домой и велел выходить, потому что хотел сразиться со мной в кендо. К тому времени я занимался дзюдо и каратэ, а вот опыта в кендо у меня не было. Но я решил, что уж что-то наверняка должно получиться, и согласился. Мы оказались на пустыре. Мой старший товарищ позволил мне гандикап: я сражался деревянным мечом, бокеном, тогда как у него в руках был только бамбуковый синай. Он двигался так быстро, что я никак не мог достать его. А синай регулярно впивался в мою плоть. В конце концов я был порядочно избит.
Этот случай впервые заставил меня по-новому взглянуть на будо. Разочарованный, я перестал ходить на занятия по дзюдо и стал размышлять. Получалось, что даже если я буду усердно заниматься дзюдо, добьюсь высоких результатов в этом виде борьбы и буду совершенно уверен в своих техниках, все равно остается шанс, что я проиграю бой в кендо кендоке, едва получившему мастерскую степень. И наоборот: даже состоявшийся тренер по кендо, реши он по какой-то причине надеть нашу форму и выйти на бой в нашем додзе, вероятнее всего уступит мне в дзюдо, независимо от своих регалий в мире кендо.
Я много размышлял на эту тему и пришел к выводу, что в этой системе чего-то не хватает, что где-то в ее основании есть ошибка: настоящее будо – это что-то иное.
Я был уверен, что настоящий мастер будо должен быть способен на адекватный ответ вне зависимости от обстоятельств. Будь это бой меч против меча или любой другой. Вот с таких простых вещей я и начал рассуждать об истинной сути будо.
Поскольку я не знал, где найти то будо, которое мне было нужно, я перестал заниматься какими бы то ни было боевыми искусствами примерно на полгода. Я должен был найти учителя, способного дать мне то, что я искал…
А потом однажды я увидел в книжном магазине книгу про айкидо. Внутри была небольшая фотография О’Сэнсея. Я сразу же понял, что нашел своего учителя. Тогда я не знал практически ничего о техниках айкидо, но это было неважно. Внутри была уверенность: «Я нашел то, что искал! Этот человек понимает то, что беспокоило меня все это время». И я пошел в додзе Уэсибы-сэнсея (довольно самонадеянно, надо признать, ибо никакого приглашения у меня не было), чтобы просить его взять меня в качестве учидеши как можно скорее. Вот так я и пришел в айкидо.
Сколько вам было лет?
Я только что закончил школу к тому моменту, так что около 18. Уэсиба тогда жил в Иваме и нечасто бывал в Хомбу Додзе. Но я был настроен сидеть перед входом до тех пор, пока мне не разрешили бы стать учидеши. Я так и поступил: пришел и ждал возможности с кем-то поговорить. Была середина февраля (1958 года) и на улице было холодно. Кажется, ученики и персонал Хомбу Додзе считали меня сумасшедшим. Через три дня приехал О’Сэнсей. Видимо, вака-сэнсей Киссомару сообщил ему, что у входа сидит какой-то странный человек, и спросил, как следует с ним поступить. О’Сэнсей распорядился пропустить меня – и так я получил возможность встретиться с ним. Я остановился в холле перед комнатой О’Сэнсея и опустился на колени в формальном поклоне. Когда я поднял глаза, я понял: «Все получится!»
О’Сэнсей предупредил: «Обучение будо потребует полной отдачи. Ты уверен, что справишься?» Я сказал, что абсолютно уверен. И тогда он ответил: «Хорошо». Это была очень простая и короткая встреча.
Следующие 7 лет вы провели в качестве учидеши в Хомбу Додзе…
Да, и на протяжении этих 7 лет не было ни одного дня, который показался бы мне развлечением. По крайней мере, в то время точно нет. Сейчас я с удовольствием вспоминаю те годы, но тогда они были для меня полными трудностей. С другой стороны, это был путь, который я сам избрал для себя, меня никто не принуждал это терпеть. И в этом смысле, несмотря на сложности, я считаю, что мне очень повезло.
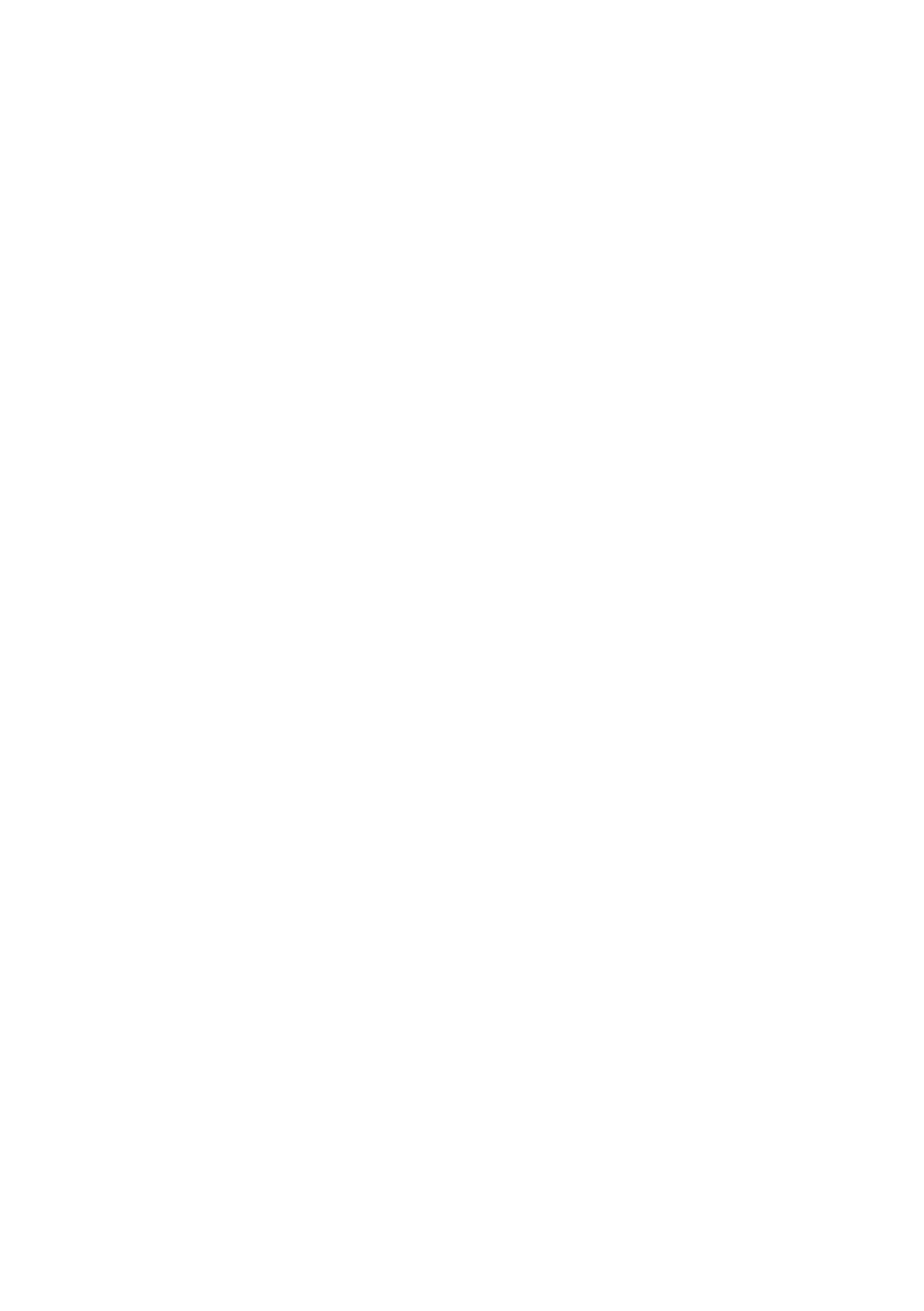
У вас наверняка есть много интересных историй из тех времен…
О’Сэнсей был еще в добром здравии, когда я начал заниматься. На протяжении 7 лет я наблюдал, как его техники стремительно менялись. За год я достаточно освоился с базой – настолько, что мне было дозволено ассистировать ему.
Тренировки с О’Сэнсеем были очень жесткими. Я постоянно обдирал кожу на локтях, когда мы практиковали ирими нагэ, и рукава моей формы вечно были в пятнах крови. Техники О’Сэнсея были настолько стремительными, что я едва успевал страховаться. Но еще хуже, чем необходимость успевать с укеми, было то, что даже когда он бросал тебя особенно сильно, нужно было сразу же вскочить и быть готовым к новой атаке; нельзя было отводить глаз от него. Ты чувствовал это затылком, когда он швырял тебя за два метра от себя на татами. Он также необычайно быстро работал мечом.
Как бы вы описали энергетику О’Сэнсея?
Ощущение было такое, как будто на тебя воздействует какая-то невидимая сила. О’Сэнсей предлагал нам атаковать его в любой момент. И когда он останавливался и обращался к аудитории, казалось, что это удачный момент нанести удар бокеном, т.к. в это время он совершенно на тебя не смотрел. Но даже в эти моменты никто из нас не решался на атаку. Он просто не оставлял открытых мест. Возможно, он не смотрел на тебя глазами, но он прочно удерживал тебя силой ки. От этого ощущения тело покрывалось липким потом, я едва мог удержать бокен в руках.
И все же мы не оставляли попыток, постепенно сокращая дистанцию. И тогда в какой-то момент ты вдруг видел возможность для атаки. О’Сэнсей специально чуть приоткрывался, чтобы дать нам возможность потренировать свое чувство партнера. Он не работал с учениками, которые не были способны обнаруживать эту моментальную уязвимость.
В мгновение, когда О’Сэнсей чуть ослаблял силу своего кокю, мы немедленно атаковали, но… его уже не было! Со стороны казалось, что все было подстроено. На самом деле он просто начинал двигаться одновременно с атакующим. Мы просто оказывались гораздо медленнее в движениях или в восприятии. Это всегда очень занимало меня.
О’Сэнсей всегда говорил, что настоящее будо настолько совершенно, что действительно выглядит постановкой.
Он считал, что, если вы начинаете двигаться тогда, когда атака уже произведена, это не будо. Стороннему наблюдателю действительно должно казаться, что все подстроено, - только тогда это реально!
А одинаково ли О’Сэнсей учил своих учидеши и тех, кто просто приходил на общие занятия?
Содержание тренировки ничем не отличалось. Но в то же время нам всегда явным образом говорили, что мы не можем тренироваться так же, как приходящие ученики. Наша подготовка должна была быть более жесткой и напряженной, расслабляться было нельзя. О’Сэнсей строго следил за этим.
Учидеши очень редко получали какое-то особое знание в части техники. Скорее наиболее напряженной частью нашего обучения было взаимодействие с самим О’Сэнсеем во всех аспектах его ежедневной жизни: мы служили ему персональными помощниками, сопровождали в поездках, готовили еду и ванну, делали ему массаж, читали, и прочая, и прочая. Людям, которые никогда не были учидеши, вероятно, будет сложно это понять.
Тогда, пожалуйста, расскажите еще об этом опыте…
Обычно мы сопровождали О’Сэнсея в поездках; например, визиты в Осаку и Вакаяму длились примерно неделю. Мы везли собственные вещи и багаж О’Сэнсея, а кроме того за спиной у каждого были бокен и дзе. В таком виде мы грузились в такси и ехали на вокзал Токио. Когда мы подъезжали, О’Сэнсей немедленно выходил и исчезал в здании вокзала. А нам нужно было самим разобраться с маршрутом, вещами, купить билеты. Затем нам надлежало нагнать его, когда он шел сквозь толпу, которая как будто расступалась перед ним.
Если на пути встречались лестницы, то мы слегка поддерживали О’Сэнсея в спину по подъеме или наоборот опускались на ступеньку ниже на спуске, чтобы он мог опереться о наши плечи. В конце концов мы добирались до поезда. И иногда случалось, что кто-то из учидеши отставал по дороге, но О’Сэнсей все равно садился в поезд и мы уезжали. Так что это было личной задачей каждого из нас успевать за группой.
Номера, в которых мы останавливались, как правило, состояли из двух комнат и общего санузла. О’Сэнсей всегда занимал дальнюю комнату, а все учидеши набивались во вторую. О’Сэнсей был уже в том возрасте, когда он мог вставать по 6 раз за ночь, чтобы сходить в туалет. И мы должны были помогать ему. Первые 2-3 года я совсем не мог спать в этих поездках, т.к. никогда не знал, когда придется встать в следующий раз.
Когда он просыпался, мы открывали дверь и помогали ему надеть хаори (свободно сидящий жакет с длинными передними полами, достигающими середины бедра), провожали его в туалет, открывали дверь и зажигали свет. Затем мы помогали ему вымыть и высушить руки, провожали его обратно в постель и возвращались в нашу комнату. Теперь представьте, что все это происходило по 5-6 раз за ночь – и вы поймете, что выспаться, конечно, не получалось. Каждый из нас за такую поездку терял по 3-4 килограмма и приезжал домой сильно вымотанным.
Интересно, однако, что спустя примерно 4 года я стал нормально спать в таких поездках. Я будто бы чувствовал в своем сне, когда О’Сэнсею нужно встать. Я просыпался, выскакивал из постели, открывал дверь в его комнату и… - идеально вовремя! Понимаете?
Мы как будто общались без слов. По-японски мы говорим «ишин деншин», что означает примерно «общение на таком уровне, как будто у двух людей один мозг».
Такая тренировка позволяет вам чувствовать намерение вашего партнера на татами. Когда вы стоите друг напротив друга вооруженные мечами, важно совсем не то, кто сильнее. Гораздо важнее то, кто точнее считывает намерения партнера. Чтобы двигаться вовремя, вам нужно вовремя замечать открытые места, как только они появляются.
Не знаю, специально ли О’Сэнсей тренировал нас подобным образом. В любом случае этот опыт оказал существенное влияние на мою технику: я научился действовать в ответ на малейшее движение ки моего партнера еще до того, как осознавал его. Конечно, я не могу делать так все время… Мне бы хотелось уметь, ведь тогда я бы действительно был экспертом, правда? (смеется)
Как вам кажется, что важнее всего понимать тем, кто только начинает освоение айкидо?
Люди приходят в айкидо с настолько разными задачами, что мне сложно обобщать. Когда я был учидеши, в Хомбу Додзе тренировалось гораздо меньше людей, но почти все из них приходили туда в поисках «реального айкидо». Многие из них были довольно эксцентричны или вели себя весьма необычно, в т.ч. до степени фанатизма в отношении будо. Со стороны мы должны были казаться довольно странной компанией.
Сейчас гораздо больше разнообразия. Кто-то приходит в зал ради того, чтобы поддерживать себя в форме; кто-то в поисках чего-то философского или духовного. И это здорово!
На сегодняшний день, однако, очень важно разобраться: если вы представите себе айкидо как дерево, то кто должен занять место листьев и побегов, а кто – корней и ствола. До тех пор, пока есть люди, которые берут на себя роль корней и ствола, дерево остается цельным и здоровым; на таком дереве обязательно будут появляться новые побеги и листья. Здесь не о чем волноваться. Людям, которые говорят, что айкидо не должно быть таким, каким стало сейчас, следует помнить о закономерности такого явления. Листва всегда будет оставаться листвой, а побеги побегами, и сами по себе они прекрасны. Они – часть дерева. Вопрос в том, кто поддерживает ствол и корневую систему.
Вообще я думаю, что в будо нет нового и старого. В принципе в японском есть термин «кобудо», который дословно означает «старое будо». И в этом смысле противоположностью ему являлось бы «шинбудо» или «новое будо», но на самом деле так никто не говорит. Современные веяния в будо приближают его к спорту. И, вероятно, такие виды спорта можно было бы назвать «новыми формами будо». Но в традиционном понимании спорт не может считаться истинным будо.
Мне сложно сказать, насколько эти новые направления можно считать будо.
Но, в моем представлении, нет сомнений, что корни айкидо – именно в будо. И все ветви и листва растут на этом основании. Все остальные направления – айкидо как искусство жизни, как способ поддержания здоровья, как доступная гимнастика или поиск эстетически привлекательного движения – все они происходят из общего корня, которым является будо.
И то, что они появляются, абсолютно нормально. Но важно понимать, что они не являются корнем сами по себе. О’Сэнсей настойчиво повторял, что «Айкидо – это будо» и «Будо – это источник энергии для айкидо». Если мы забудем об этом, то айкидо мутирует во что-то иное, в «искусство жить» или что-то сродни йоге.
А вы можете объяснить это на уровне техник?
Мой опыт все же ограничен, но больше всего меня захватывает тот факт, что айкидо абсолютно рационально, у нас есть понятные принципы, которые пронизывают все техники айкидо. В качестве примера можно взять один из множества принципов айкидо – «в единстве множество». Так, в техниках, выполняемых без оружия, всегда заложен потенциал трансформации в техники с оружием и наоборот. Техники, которые используются против одного оппонента, могут быть использованы для защиты от нескольких нападающих. Движения органично развиваются от техник без оружия к оружию и обратно, от техник против одного атакующего к техникам против нескольких и обратно – постоянно, непрерывно, естественным образом. В этом смысле айкидо – это практически живой организм.
Это важнейший элемент для понимания айкидо как будо. Именно такое движение использовал О’Сэнсей и именно оно лежит в основе айкидо.
Однако это ключевое качество айкидо не всегда явно видно в отдельных техниках, не так, как оно пронизывает все искусство целиком и знаменует собой его скрытый потенциал. Именно это качество айкидо допускает тот подход к этике, которого требует современная духовность, - «шинму фусатсу», или «не убий», являющееся высшим идеалом японского будо.
Сущность айкидо как будо не лежит на поверхности, однако люди сопричастные все же должны быть в состоянии разглядеть ее. То айкидо, что мы видим на поверхности, иными словами – большая часть современного айкидо, не является отражением будо в традиционном понимании этого слова. К счастью, в айкидо остается потенциал для тех, кто намерен всерьез разбираться и через длительный собственный поиск дойти до сути, постичь и прожить ее.
Мне кажется, что айкидо потрясающим, невероятным образом сочетает в себе традиционную, классическую, символическую форму, которая доступна на поверхности, и глубокий потенциал, раскрывающий истинное понятие «бу», воинского. И в этом отношении эта глубина практически неисчерпаема.
Большая ошибка думать, что реально только то, что видно на поверхности. С другой стороны, если в поисках «настоящего», лежащего за пределами формы, вы потеряете универсальность айкидо как пути («мичи»), все усилия Дошу (* Моритеру Уэсиба) будут напрасны.
То понимание айкидо, которое транслирует Дошу, подразумевает отказ от боевого ради выхода за пределы «бу». Ключевым для него является упор на универсальность айкидо как пути. Дошу подвергает тщательной ревизии и критике некоторые аспекты будо, связанные с негуманным, неэтичным и грубым подходом, всячески стараясь очистить айкидо от них. С возрастом, мне кажется, я все больше понимаю и ценю позицию Дошу по этому вопросу и начинаю относиться к нему со все большим уважением за такой подход.
Наряду с идеалами духовной гармонии и единства, на уровне техники становятся важны широкие, мягкие, затягивающие в круг движения. Однако если вы будете чрезмерно ими увлекаться, то ваша техника будет очень «однобокой» и вы вновь потеряете сущность будо. Такие движения не всегда технически эффективны. В этом смысле это скорее ветви и листья, которые символически отражают философию айкидо. У них есть своя роль в дуалистической концепции айкидо – того, что видно на поверхности, и того, что скрыто внутри. О’Сэнсей всегда придерживался мнения, что все видимые аспекты айкидо, его форма, должны отражать дух будо. Он говорил: «Источником айкидо является будо. И вы все должны сначала постичь будо, однако айкидо идет дальше». Он также говорил: «Сегодняшней публике не нужно будо как таковое». У него было очень четкое понимание этих вопросов, которое он явно излагал.
Таким образом О’Сэнсей открывал дверь для многих групп людей, которые в прошлом – по любым причинам – были исключены из мира традиционного будо. Людям хрупкого телосложения, лишенным физической силы, пожилым, женщинам. Он устранил элемент соревновательности и тем самым создал учение, которое адаптируется к особенностям и возможностям каждого конкретного человека, раскрывая его внутренний потенциал, позволяя занять свою нишу и выполнить свое предназначение в жизни. Он как будто создал новый мир, в котором люди могут жить вместе, каждый, максимально используя свой потенциал. По крайней мере, я именно так понимаю задумку О’Сэнсея.
Это качественно новый подход к будо, не так ли?
Да. Хотя с другой стороны, я очень боюсь, что все те люди, что были исключены из традиционного будо и нашли себя в айкидо, вдруг начнут думать, что их исполнение и есть единственное настоящее айкидо. Они забывают о суровости настоящего будо, отвергая ее как «не являющуюся частью айкидо». Я знаю, что в реальности существуют люди, которые так и думают, но считаю, что они находятся в плену заблуждения, путая побеги и листья с корнями. Если листва и побеги станут центральным элементом айкидо, это будет крайне разрушительно для этого искусства и уведет его сильно в сторону.
Разумеется, очень важно отдавать себе отчет, что, если листья и побеги увянут и умрут, вместе с ними умрут также и корни. Мы должны понимать, что айкидо – это цельный живой организм, все аспекты которого должны развиваться гармонично.
Мне кажется, что история того, как и почему О’Сэнсей пришел к созданию айкидо, должна лечь в основу и нашего изучения этого искусства. Если продолжать метафору с деревом, то было бы неверно просто срывать с него плоды – вместо этого правильно было бы вместе с О’Сэнсеем совершить путешествие от листвы и ветвей, по стволу и к корням. Нужно обязательно добраться до источника, иначе нам никогда не постигнуть процесс, который привел О’Сэнсея к его выводам. Чтобы действительно осознать и освоить айкидо, я думаю, нам нужно постараться максимально прочувствовать то, что ощущал О’Сэнсей, как в плане духовности, так и в плане техники, как бы трудно это ни было в силу того, что мы не обладаем его способностями.
Еще я думаю, что нельзя полностью изучить будо (так же, как нельзя полностью изучить философию, или религию, или иной плод человеческого разума). Таким образом, мое понимание будо – это исключительно индивидуальное понимание, на личном уровне. О’Сэнсей строил свое будо, которое отличается от моего.
Аналогично, я не могу просто взять и объяснить, передать мое будо моим ученикам. Максимум, что я могу сделать, это пригласить их разделить мой опыт и на его основе построить свое собственное будо. В этом смысле будо – это пусть одинокого воина для каждого из нас, потому что вы не можете просто перенять в готовом виде достижения вашего учителя. Различные аспекты будо просто не откроются для вас так же, как однажды открылись для вашего учителя.
При этом я, разумеется, не хочу сказать, что нет нужды разрабатывать базовую методологию обучения, содержащую теорию, доктрины, методы обучения и т.д.
В будо существует три стадии: шу (наблюдение, четкое следование, поддержание), ха (бунт, отвержение) и ри (отделение и освобождение). В фазе «шу» вы буквально поглощаете все, что может предложить вам учитель, и беспрекословно слушаетесь его. Любое самоутверждение, творческий подход и независимые суждения полностью исключены в этой стадии, как бы долго она ни длилась. Вам надлежит в точности повторять то, чему вас учат, непредвзято и не привнося ничего нового. Это сродни самоотрицанию. И чему бы и насколько вы ни научились на этом этапе, это все еще искусство вашего учителя, а не ваше.
Для дальнейшего развития нужна следующая стадия – «ха», когда вы отрываетесь от того, чему научились. Таким образом вы добавляете в картину свою личность. Это форма творчества, форма самоутверждения. На этой стадии вы открываете для себя некие персональные особенности, вашу личность, открываете то, кем и чем являетесь на самом деле. Вы перебираете то, чему научились за предыдущие годы, «перевариваете» и усваиваете то, что поможет вам в создании вашего собственного будо. Но это еще далеко не конец процесса, потому что такое самоутверждение в основном происходит через отвержение «другого». Иными словами, оно существует только относительно того, против чего вы бунтуете. И тут вам нужно переходить к следующей стадии.
Третья стадия – это «ри». Пройдя через отвержение себя в фазе «шу» и утверждение себя в фазе «ха», на третьей стадии «ри» вы должны отвергнуть и это утверждение. «Ри» позволяет вам освободиться от относительности первых двух стадий, подойти к завершению своего освоения будо, открывшись универсальности.
Если опуститься на уровень техник, то «шу» знаменует собой период активного освоения техник, составляющих основу боевого искусства, «ха» - фаза исследования и практического применения этих приемов, а «ри» - создание индивидуального стиля.
На духовном или интеллектуальном уровне «шу» - это отрицание «самости», «ха» - ее утверждение, а «ри» - это преодоление дуализма «я-другой» и освобождение от одержимости деталями. Все эти фазы пересекаются и накладываются одна на другую.
В современном айкидо, как мне кажется, недостает «шу», и это может оказаться проблемой в будущем. Я уверен, что обучение будо, которое не включает фазу самоотречения, может быть опасно для практикующего. Суровые, жесткие тренировки, которые позволяют вам ощутить это самоотречение, очень важны. Только пройдя через это, вы естественным образом приходите к самоутверждению, а позднее, отказываясь и от него, достигаете вашей истинной цели.
На моем личном ограниченном опыте я смог прикоснуться к части того мира, который описываю вам. Интерпретация же этих концепций кем-то, кто не прожил этого на практике, едва ли будет более чем просто мертвым описанием. Даже концепция стадий «шу» - «ха» - «ри», к примеру, может быть искажена до степени абсурда, если попытаться описать ее с помощью каких-то ментальных конструкций. Развитие, которое описывают эти термины, - это целая диалектика. На самом деле, эта философия в айкидо несколько сродни экзистенциальным теориям (существование предшествует сущности), которые процветали в начале 19 века.
Очень современным качеством айкидо является то, что не будо определяет человека, а сама природа человеческого существования дает основу для будо, освещает его новым светом, придает новый смысл и привносит уважение к практичности и независимости. Это, в свою очередь, усиливает критический подход и необходимость постоянного поиска. В условиях, когда будо не предлагает «готового продукта» или инструкции по его достижению, практикующие не могут не отдавать себе отчет в хрупкости своего равновесия. Всего один неверный шаг может легко увести их в дебри идеологии и догматизма, сопровождающихся губительным самодовольством. Чтобы не попасться в эту ловушку, мне кажется, просто необходимо пройти фазу строгих, жестких тренировок в начале пути освоения будо.
Занятия айкидо предполагают многолетнюю упорную работы над формами с целью создания базы, из которой потом можно будет сделать что-то свое. Очень важно постоянно продолжать осмысление того, как это может быть достигнуто в условиях, которые предлагает нам тренировка. Возьмите, например, ката – предопределенные учебные формы. Если смотреть только на форму, то мы создаем искусственное противостояние, в котором тори занимает активную позицию, а уке – пассивную. Но если каждый учится осознанно управлять собой, использовать свою свободу, то разница между ролями стирается. Это понимание можно расширить на самые разные, вроде бы полярные, аспекты нашей жизни: жизнь и смерть, молодость и старость, здоровье и слабость, счастье и грусть, победа и поражение, успех и неудача. В этом смысле умение устранить кажущийся дуализм имеет большое значение для того, как вы проводите свою жизнь.
Изначальная суть будо глубоко связана с противопоставлением себя и другого, с балансированием между жизнью и смертью и неизбежно приводит к выводу о нерациональности существования. Однако именно в этой иррациональности заключена возможность пробудиться к осознанию источника собственной свободы. В этом смысле дзен и будо очень похожи – оба исходят из признания иррациональности жизни, хотя и смотрят на проблему с разных сторон.
Даже внутри буддизма именно дзен фокусируется на том, чтобы отказаться от идеологии и догмы и перейти непосредственно к постижению сущности бытия. В этом смысле дзен носит очень практический характер, равно как и экзистенциальный. По этой причине он оказывал глубокое влияние на духовное развитие класса воинов в Японии примерно с периода Камакура (12-14 век н.э. – прим. переводчика). Дзен естественным образом стал плотью и кровью их боевых искусств и, как вы можете видеть, оказывает на них существенное влияние и до сих пор.
Раз уж мы об этом заговорили, то мне кажется, нам вовсе не следует рассматривать дзен и будо по отдельности – я всегда рекомендую людям обратить внимание на особенности национального менталитета Японии, который впитал и ассимилировал эти концепции. Подлинно японский дух вобрал в себя элементы не только будо и дзен-буддизма, но и конфуцианства, даосизма и синтоизма, выбирая и подсвечивая наиболее яркие их стороны, поддерживая и смешивая идеи – для формирования потрясающе гармоничного целого.
Возвращаясь к моей мысли, мне думается, все, что происходит в додзе: броски и страховки, победы и поражения в практиках (тачиай, которые мы используем вместо соревновательных поединков) – все это носит скорее символический характер. В реальности основная задача, которую мы решаем, - это адекватная реакция человека на разнообразные жизненные обстоятельства. Таким образом, как и предполагает поговорка «победа в поражении» («макете катсу»), такие понятия окружающего мира как превосходство и подчинение, победа и поражение становятся неважны.
Удивительным образом, люди, которые достигли такого уровня реализации, рассматривают саму смерть просто как еще одно явление. Давайте рассмотрим пример китайского дзен-буддиста, монаха Букко, которых жил во времена Южной династии Сун (прим. 1127-1279). Он был приглашен бакуфу (правительством) Камакура и провел остаток своей жизни в Японии. Среди прочего, он стал участником монгольского конфликта и был пленен. Он уже готовился принять казнь, когда сочинил стихотворение в китайском стиле, содержащее ставшую впоследствии известной строфу «Denko eiri shunpu wo kiru», что можно примерно перевести как «Даже если вы отрубите мне голову, это будет иметь не больше эффекта, чем поглаживание весеннего бриза, что шепчет в полях». Очевидно, Тешу Ямаока назвал свое додзе Шунпукан (Зал весеннего бриза) по мотивам этого стихотворения. Очень светлое название, не так ли?
Все европейские экзистенциалисты 19 века, от Кьеркегора и Ницше до Ясперса, Хайдеггера и Сартра (который в конце концов ушел в атеистический экзистенциализм) – все искали основу человеческого существования / бытия на грани небытия. И вы легко сможете провести параллели между их изысканиями и философией дзен, которая тоже на протяжении тысячелетий искала способ адекватного ответа на иррациональность сущего. Тот факт, что два эти течения зародились в совершенно разных культурных контекстах, лишь подчеркивает общность мышления на каком-то очень глубинном уровне.
Конечно, западная и восточная цивилизации расходятся в целом ряде других вопросов. К примеру, восточная философия исходит из идеи единства души и тела, что в западной мысли явным образом не звучит. Это проявляется в восточных традиционных практиках: индийской йоге, магическом китайском даосизме, китайских боевых искусствах, в мисоги и прочих ритуальных практиках очищения в японском синтоизме и буддизме, медитации дзадзен и в японском будо, которое впитало в себя элементы этих традиционных течений.
Напротив, западная мысль, на мой взгляд, подчеркивает дуализм. Она исходит из того, что между духовным и физическим довольно мало общего, что делает эти концепции чисто спекулятивными. Очевидный пример разницы этих двух подходов можно найти в контрасте между скульптурой Родена «Мыслитель» и статуей бодхисаттвы, сидящего наполовину в позе лотоса, в храме Корю в Киото, которая считается изображением принца Сиддхартхи перед тем, как он достиг состояния будды. Разница подходов к размышлению становится предельно понятной, когда сравниваешь два этих произведения искусства.
Не поймите меня превратно: я не считаю, что восточная мысль в чем-то превосходит западную. В конце концов, со времен начала индустриальной революции в 1770-х именно чисто спекулятивный подход Запада лег в основу всех прикладных наук и полностью предопределил современный стиль жизни. С точки зрения истории человечества, сейчас как никогда нужно было бы объединить два этих подхода.
Это еще одна причина, по которой нам нужно очень серьезно отнестись к тому, как мы подходим к распространению и развитию айкидо.
Это искусство, рожденное из традиционного японского будо, несет в себе особые свойства, связывающие тело и душу, и поэтому должно быть корректно донесено до людей во всем мире.
Боюсь, что, если мы не справимся с таким корректным распространением айкидо, оно в итоге потеряет как корни, так и листья.
То же справедливо в отношении японского будо в целом. Я искренне полагаю, что, если бы задачей было лишь удовлетворение потребностей в физической тренировке, в будо не было бы необходимости. Спорт и около-спортивные занятия полностью справились бы с этой задачей. Но будо несет обществу гораздо больше, чем просто физическую тренировку. Мне кажется, нам нужно всерьез об этом задуматься.
Мне кажется, японское будо, и айкидо в том числе, обладает огромным скрытым потенциалом для того, чтобы остановить постепенное разрушение нашей свободы и независимости. Свобода личности страдает под влиянием множественных противоречий, привнесенных исключительным материализмом современного капиталистического общества, идеологией превосходства экономического процветания и излишним увлечением рационализмом. Будо предлагает способ вернуться к источнику человеческой свободы. Поэтому мне кажется, что нам нужно по-новому посмотреть на него и переоценить его именно с этой точки зрения.
О’Сэнсей был еще в добром здравии, когда я начал заниматься. На протяжении 7 лет я наблюдал, как его техники стремительно менялись. За год я достаточно освоился с базой – настолько, что мне было дозволено ассистировать ему.
Тренировки с О’Сэнсеем были очень жесткими. Я постоянно обдирал кожу на локтях, когда мы практиковали ирими нагэ, и рукава моей формы вечно были в пятнах крови. Техники О’Сэнсея были настолько стремительными, что я едва успевал страховаться. Но еще хуже, чем необходимость успевать с укеми, было то, что даже когда он бросал тебя особенно сильно, нужно было сразу же вскочить и быть готовым к новой атаке; нельзя было отводить глаз от него. Ты чувствовал это затылком, когда он швырял тебя за два метра от себя на татами. Он также необычайно быстро работал мечом.
Как бы вы описали энергетику О’Сэнсея?
Ощущение было такое, как будто на тебя воздействует какая-то невидимая сила. О’Сэнсей предлагал нам атаковать его в любой момент. И когда он останавливался и обращался к аудитории, казалось, что это удачный момент нанести удар бокеном, т.к. в это время он совершенно на тебя не смотрел. Но даже в эти моменты никто из нас не решался на атаку. Он просто не оставлял открытых мест. Возможно, он не смотрел на тебя глазами, но он прочно удерживал тебя силой ки. От этого ощущения тело покрывалось липким потом, я едва мог удержать бокен в руках.
И все же мы не оставляли попыток, постепенно сокращая дистанцию. И тогда в какой-то момент ты вдруг видел возможность для атаки. О’Сэнсей специально чуть приоткрывался, чтобы дать нам возможность потренировать свое чувство партнера. Он не работал с учениками, которые не были способны обнаруживать эту моментальную уязвимость.
В мгновение, когда О’Сэнсей чуть ослаблял силу своего кокю, мы немедленно атаковали, но… его уже не было! Со стороны казалось, что все было подстроено. На самом деле он просто начинал двигаться одновременно с атакующим. Мы просто оказывались гораздо медленнее в движениях или в восприятии. Это всегда очень занимало меня.
О’Сэнсей всегда говорил, что настоящее будо настолько совершенно, что действительно выглядит постановкой.
Он считал, что, если вы начинаете двигаться тогда, когда атака уже произведена, это не будо. Стороннему наблюдателю действительно должно казаться, что все подстроено, - только тогда это реально!
А одинаково ли О’Сэнсей учил своих учидеши и тех, кто просто приходил на общие занятия?
Содержание тренировки ничем не отличалось. Но в то же время нам всегда явным образом говорили, что мы не можем тренироваться так же, как приходящие ученики. Наша подготовка должна была быть более жесткой и напряженной, расслабляться было нельзя. О’Сэнсей строго следил за этим.
Учидеши очень редко получали какое-то особое знание в части техники. Скорее наиболее напряженной частью нашего обучения было взаимодействие с самим О’Сэнсеем во всех аспектах его ежедневной жизни: мы служили ему персональными помощниками, сопровождали в поездках, готовили еду и ванну, делали ему массаж, читали, и прочая, и прочая. Людям, которые никогда не были учидеши, вероятно, будет сложно это понять.
Тогда, пожалуйста, расскажите еще об этом опыте…
Обычно мы сопровождали О’Сэнсея в поездках; например, визиты в Осаку и Вакаяму длились примерно неделю. Мы везли собственные вещи и багаж О’Сэнсея, а кроме того за спиной у каждого были бокен и дзе. В таком виде мы грузились в такси и ехали на вокзал Токио. Когда мы подъезжали, О’Сэнсей немедленно выходил и исчезал в здании вокзала. А нам нужно было самим разобраться с маршрутом, вещами, купить билеты. Затем нам надлежало нагнать его, когда он шел сквозь толпу, которая как будто расступалась перед ним.
Если на пути встречались лестницы, то мы слегка поддерживали О’Сэнсея в спину по подъеме или наоборот опускались на ступеньку ниже на спуске, чтобы он мог опереться о наши плечи. В конце концов мы добирались до поезда. И иногда случалось, что кто-то из учидеши отставал по дороге, но О’Сэнсей все равно садился в поезд и мы уезжали. Так что это было личной задачей каждого из нас успевать за группой.
Номера, в которых мы останавливались, как правило, состояли из двух комнат и общего санузла. О’Сэнсей всегда занимал дальнюю комнату, а все учидеши набивались во вторую. О’Сэнсей был уже в том возрасте, когда он мог вставать по 6 раз за ночь, чтобы сходить в туалет. И мы должны были помогать ему. Первые 2-3 года я совсем не мог спать в этих поездках, т.к. никогда не знал, когда придется встать в следующий раз.
Когда он просыпался, мы открывали дверь и помогали ему надеть хаори (свободно сидящий жакет с длинными передними полами, достигающими середины бедра), провожали его в туалет, открывали дверь и зажигали свет. Затем мы помогали ему вымыть и высушить руки, провожали его обратно в постель и возвращались в нашу комнату. Теперь представьте, что все это происходило по 5-6 раз за ночь – и вы поймете, что выспаться, конечно, не получалось. Каждый из нас за такую поездку терял по 3-4 килограмма и приезжал домой сильно вымотанным.
Интересно, однако, что спустя примерно 4 года я стал нормально спать в таких поездках. Я будто бы чувствовал в своем сне, когда О’Сэнсею нужно встать. Я просыпался, выскакивал из постели, открывал дверь в его комнату и… - идеально вовремя! Понимаете?
Мы как будто общались без слов. По-японски мы говорим «ишин деншин», что означает примерно «общение на таком уровне, как будто у двух людей один мозг».
Такая тренировка позволяет вам чувствовать намерение вашего партнера на татами. Когда вы стоите друг напротив друга вооруженные мечами, важно совсем не то, кто сильнее. Гораздо важнее то, кто точнее считывает намерения партнера. Чтобы двигаться вовремя, вам нужно вовремя замечать открытые места, как только они появляются.
Не знаю, специально ли О’Сэнсей тренировал нас подобным образом. В любом случае этот опыт оказал существенное влияние на мою технику: я научился действовать в ответ на малейшее движение ки моего партнера еще до того, как осознавал его. Конечно, я не могу делать так все время… Мне бы хотелось уметь, ведь тогда я бы действительно был экспертом, правда? (смеется)
Как вам кажется, что важнее всего понимать тем, кто только начинает освоение айкидо?
Люди приходят в айкидо с настолько разными задачами, что мне сложно обобщать. Когда я был учидеши, в Хомбу Додзе тренировалось гораздо меньше людей, но почти все из них приходили туда в поисках «реального айкидо». Многие из них были довольно эксцентричны или вели себя весьма необычно, в т.ч. до степени фанатизма в отношении будо. Со стороны мы должны были казаться довольно странной компанией.
Сейчас гораздо больше разнообразия. Кто-то приходит в зал ради того, чтобы поддерживать себя в форме; кто-то в поисках чего-то философского или духовного. И это здорово!
На сегодняшний день, однако, очень важно разобраться: если вы представите себе айкидо как дерево, то кто должен занять место листьев и побегов, а кто – корней и ствола. До тех пор, пока есть люди, которые берут на себя роль корней и ствола, дерево остается цельным и здоровым; на таком дереве обязательно будут появляться новые побеги и листья. Здесь не о чем волноваться. Людям, которые говорят, что айкидо не должно быть таким, каким стало сейчас, следует помнить о закономерности такого явления. Листва всегда будет оставаться листвой, а побеги побегами, и сами по себе они прекрасны. Они – часть дерева. Вопрос в том, кто поддерживает ствол и корневую систему.
Вообще я думаю, что в будо нет нового и старого. В принципе в японском есть термин «кобудо», который дословно означает «старое будо». И в этом смысле противоположностью ему являлось бы «шинбудо» или «новое будо», но на самом деле так никто не говорит. Современные веяния в будо приближают его к спорту. И, вероятно, такие виды спорта можно было бы назвать «новыми формами будо». Но в традиционном понимании спорт не может считаться истинным будо.
Мне сложно сказать, насколько эти новые направления можно считать будо.
Но, в моем представлении, нет сомнений, что корни айкидо – именно в будо. И все ветви и листва растут на этом основании. Все остальные направления – айкидо как искусство жизни, как способ поддержания здоровья, как доступная гимнастика или поиск эстетически привлекательного движения – все они происходят из общего корня, которым является будо.
И то, что они появляются, абсолютно нормально. Но важно понимать, что они не являются корнем сами по себе. О’Сэнсей настойчиво повторял, что «Айкидо – это будо» и «Будо – это источник энергии для айкидо». Если мы забудем об этом, то айкидо мутирует во что-то иное, в «искусство жить» или что-то сродни йоге.
А вы можете объяснить это на уровне техник?
Мой опыт все же ограничен, но больше всего меня захватывает тот факт, что айкидо абсолютно рационально, у нас есть понятные принципы, которые пронизывают все техники айкидо. В качестве примера можно взять один из множества принципов айкидо – «в единстве множество». Так, в техниках, выполняемых без оружия, всегда заложен потенциал трансформации в техники с оружием и наоборот. Техники, которые используются против одного оппонента, могут быть использованы для защиты от нескольких нападающих. Движения органично развиваются от техник без оружия к оружию и обратно, от техник против одного атакующего к техникам против нескольких и обратно – постоянно, непрерывно, естественным образом. В этом смысле айкидо – это практически живой организм.
Это важнейший элемент для понимания айкидо как будо. Именно такое движение использовал О’Сэнсей и именно оно лежит в основе айкидо.
Однако это ключевое качество айкидо не всегда явно видно в отдельных техниках, не так, как оно пронизывает все искусство целиком и знаменует собой его скрытый потенциал. Именно это качество айкидо допускает тот подход к этике, которого требует современная духовность, - «шинму фусатсу», или «не убий», являющееся высшим идеалом японского будо.
Сущность айкидо как будо не лежит на поверхности, однако люди сопричастные все же должны быть в состоянии разглядеть ее. То айкидо, что мы видим на поверхности, иными словами – большая часть современного айкидо, не является отражением будо в традиционном понимании этого слова. К счастью, в айкидо остается потенциал для тех, кто намерен всерьез разбираться и через длительный собственный поиск дойти до сути, постичь и прожить ее.
Мне кажется, что айкидо потрясающим, невероятным образом сочетает в себе традиционную, классическую, символическую форму, которая доступна на поверхности, и глубокий потенциал, раскрывающий истинное понятие «бу», воинского. И в этом отношении эта глубина практически неисчерпаема.
Большая ошибка думать, что реально только то, что видно на поверхности. С другой стороны, если в поисках «настоящего», лежащего за пределами формы, вы потеряете универсальность айкидо как пути («мичи»), все усилия Дошу (* Моритеру Уэсиба) будут напрасны.
То понимание айкидо, которое транслирует Дошу, подразумевает отказ от боевого ради выхода за пределы «бу». Ключевым для него является упор на универсальность айкидо как пути. Дошу подвергает тщательной ревизии и критике некоторые аспекты будо, связанные с негуманным, неэтичным и грубым подходом, всячески стараясь очистить айкидо от них. С возрастом, мне кажется, я все больше понимаю и ценю позицию Дошу по этому вопросу и начинаю относиться к нему со все большим уважением за такой подход.
Наряду с идеалами духовной гармонии и единства, на уровне техники становятся важны широкие, мягкие, затягивающие в круг движения. Однако если вы будете чрезмерно ими увлекаться, то ваша техника будет очень «однобокой» и вы вновь потеряете сущность будо. Такие движения не всегда технически эффективны. В этом смысле это скорее ветви и листья, которые символически отражают философию айкидо. У них есть своя роль в дуалистической концепции айкидо – того, что видно на поверхности, и того, что скрыто внутри. О’Сэнсей всегда придерживался мнения, что все видимые аспекты айкидо, его форма, должны отражать дух будо. Он говорил: «Источником айкидо является будо. И вы все должны сначала постичь будо, однако айкидо идет дальше». Он также говорил: «Сегодняшней публике не нужно будо как таковое». У него было очень четкое понимание этих вопросов, которое он явно излагал.
Таким образом О’Сэнсей открывал дверь для многих групп людей, которые в прошлом – по любым причинам – были исключены из мира традиционного будо. Людям хрупкого телосложения, лишенным физической силы, пожилым, женщинам. Он устранил элемент соревновательности и тем самым создал учение, которое адаптируется к особенностям и возможностям каждого конкретного человека, раскрывая его внутренний потенциал, позволяя занять свою нишу и выполнить свое предназначение в жизни. Он как будто создал новый мир, в котором люди могут жить вместе, каждый, максимально используя свой потенциал. По крайней мере, я именно так понимаю задумку О’Сэнсея.
Это качественно новый подход к будо, не так ли?
Да. Хотя с другой стороны, я очень боюсь, что все те люди, что были исключены из традиционного будо и нашли себя в айкидо, вдруг начнут думать, что их исполнение и есть единственное настоящее айкидо. Они забывают о суровости настоящего будо, отвергая ее как «не являющуюся частью айкидо». Я знаю, что в реальности существуют люди, которые так и думают, но считаю, что они находятся в плену заблуждения, путая побеги и листья с корнями. Если листва и побеги станут центральным элементом айкидо, это будет крайне разрушительно для этого искусства и уведет его сильно в сторону.
Разумеется, очень важно отдавать себе отчет, что, если листья и побеги увянут и умрут, вместе с ними умрут также и корни. Мы должны понимать, что айкидо – это цельный живой организм, все аспекты которого должны развиваться гармонично.
Мне кажется, что история того, как и почему О’Сэнсей пришел к созданию айкидо, должна лечь в основу и нашего изучения этого искусства. Если продолжать метафору с деревом, то было бы неверно просто срывать с него плоды – вместо этого правильно было бы вместе с О’Сэнсеем совершить путешествие от листвы и ветвей, по стволу и к корням. Нужно обязательно добраться до источника, иначе нам никогда не постигнуть процесс, который привел О’Сэнсея к его выводам. Чтобы действительно осознать и освоить айкидо, я думаю, нам нужно постараться максимально прочувствовать то, что ощущал О’Сэнсей, как в плане духовности, так и в плане техники, как бы трудно это ни было в силу того, что мы не обладаем его способностями.
Еще я думаю, что нельзя полностью изучить будо (так же, как нельзя полностью изучить философию, или религию, или иной плод человеческого разума). Таким образом, мое понимание будо – это исключительно индивидуальное понимание, на личном уровне. О’Сэнсей строил свое будо, которое отличается от моего.
Аналогично, я не могу просто взять и объяснить, передать мое будо моим ученикам. Максимум, что я могу сделать, это пригласить их разделить мой опыт и на его основе построить свое собственное будо. В этом смысле будо – это пусть одинокого воина для каждого из нас, потому что вы не можете просто перенять в готовом виде достижения вашего учителя. Различные аспекты будо просто не откроются для вас так же, как однажды открылись для вашего учителя.
При этом я, разумеется, не хочу сказать, что нет нужды разрабатывать базовую методологию обучения, содержащую теорию, доктрины, методы обучения и т.д.
В будо существует три стадии: шу (наблюдение, четкое следование, поддержание), ха (бунт, отвержение) и ри (отделение и освобождение). В фазе «шу» вы буквально поглощаете все, что может предложить вам учитель, и беспрекословно слушаетесь его. Любое самоутверждение, творческий подход и независимые суждения полностью исключены в этой стадии, как бы долго она ни длилась. Вам надлежит в точности повторять то, чему вас учат, непредвзято и не привнося ничего нового. Это сродни самоотрицанию. И чему бы и насколько вы ни научились на этом этапе, это все еще искусство вашего учителя, а не ваше.
Для дальнейшего развития нужна следующая стадия – «ха», когда вы отрываетесь от того, чему научились. Таким образом вы добавляете в картину свою личность. Это форма творчества, форма самоутверждения. На этой стадии вы открываете для себя некие персональные особенности, вашу личность, открываете то, кем и чем являетесь на самом деле. Вы перебираете то, чему научились за предыдущие годы, «перевариваете» и усваиваете то, что поможет вам в создании вашего собственного будо. Но это еще далеко не конец процесса, потому что такое самоутверждение в основном происходит через отвержение «другого». Иными словами, оно существует только относительно того, против чего вы бунтуете. И тут вам нужно переходить к следующей стадии.
Третья стадия – это «ри». Пройдя через отвержение себя в фазе «шу» и утверждение себя в фазе «ха», на третьей стадии «ри» вы должны отвергнуть и это утверждение. «Ри» позволяет вам освободиться от относительности первых двух стадий, подойти к завершению своего освоения будо, открывшись универсальности.
Если опуститься на уровень техник, то «шу» знаменует собой период активного освоения техник, составляющих основу боевого искусства, «ха» - фаза исследования и практического применения этих приемов, а «ри» - создание индивидуального стиля.
На духовном или интеллектуальном уровне «шу» - это отрицание «самости», «ха» - ее утверждение, а «ри» - это преодоление дуализма «я-другой» и освобождение от одержимости деталями. Все эти фазы пересекаются и накладываются одна на другую.
В современном айкидо, как мне кажется, недостает «шу», и это может оказаться проблемой в будущем. Я уверен, что обучение будо, которое не включает фазу самоотречения, может быть опасно для практикующего. Суровые, жесткие тренировки, которые позволяют вам ощутить это самоотречение, очень важны. Только пройдя через это, вы естественным образом приходите к самоутверждению, а позднее, отказываясь и от него, достигаете вашей истинной цели.
На моем личном ограниченном опыте я смог прикоснуться к части того мира, который описываю вам. Интерпретация же этих концепций кем-то, кто не прожил этого на практике, едва ли будет более чем просто мертвым описанием. Даже концепция стадий «шу» - «ха» - «ри», к примеру, может быть искажена до степени абсурда, если попытаться описать ее с помощью каких-то ментальных конструкций. Развитие, которое описывают эти термины, - это целая диалектика. На самом деле, эта философия в айкидо несколько сродни экзистенциальным теориям (существование предшествует сущности), которые процветали в начале 19 века.
Очень современным качеством айкидо является то, что не будо определяет человека, а сама природа человеческого существования дает основу для будо, освещает его новым светом, придает новый смысл и привносит уважение к практичности и независимости. Это, в свою очередь, усиливает критический подход и необходимость постоянного поиска. В условиях, когда будо не предлагает «готового продукта» или инструкции по его достижению, практикующие не могут не отдавать себе отчет в хрупкости своего равновесия. Всего один неверный шаг может легко увести их в дебри идеологии и догматизма, сопровождающихся губительным самодовольством. Чтобы не попасться в эту ловушку, мне кажется, просто необходимо пройти фазу строгих, жестких тренировок в начале пути освоения будо.
Занятия айкидо предполагают многолетнюю упорную работы над формами с целью создания базы, из которой потом можно будет сделать что-то свое. Очень важно постоянно продолжать осмысление того, как это может быть достигнуто в условиях, которые предлагает нам тренировка. Возьмите, например, ката – предопределенные учебные формы. Если смотреть только на форму, то мы создаем искусственное противостояние, в котором тори занимает активную позицию, а уке – пассивную. Но если каждый учится осознанно управлять собой, использовать свою свободу, то разница между ролями стирается. Это понимание можно расширить на самые разные, вроде бы полярные, аспекты нашей жизни: жизнь и смерть, молодость и старость, здоровье и слабость, счастье и грусть, победа и поражение, успех и неудача. В этом смысле умение устранить кажущийся дуализм имеет большое значение для того, как вы проводите свою жизнь.
Изначальная суть будо глубоко связана с противопоставлением себя и другого, с балансированием между жизнью и смертью и неизбежно приводит к выводу о нерациональности существования. Однако именно в этой иррациональности заключена возможность пробудиться к осознанию источника собственной свободы. В этом смысле дзен и будо очень похожи – оба исходят из признания иррациональности жизни, хотя и смотрят на проблему с разных сторон.
Даже внутри буддизма именно дзен фокусируется на том, чтобы отказаться от идеологии и догмы и перейти непосредственно к постижению сущности бытия. В этом смысле дзен носит очень практический характер, равно как и экзистенциальный. По этой причине он оказывал глубокое влияние на духовное развитие класса воинов в Японии примерно с периода Камакура (12-14 век н.э. – прим. переводчика). Дзен естественным образом стал плотью и кровью их боевых искусств и, как вы можете видеть, оказывает на них существенное влияние и до сих пор.
Раз уж мы об этом заговорили, то мне кажется, нам вовсе не следует рассматривать дзен и будо по отдельности – я всегда рекомендую людям обратить внимание на особенности национального менталитета Японии, который впитал и ассимилировал эти концепции. Подлинно японский дух вобрал в себя элементы не только будо и дзен-буддизма, но и конфуцианства, даосизма и синтоизма, выбирая и подсвечивая наиболее яркие их стороны, поддерживая и смешивая идеи – для формирования потрясающе гармоничного целого.
Возвращаясь к моей мысли, мне думается, все, что происходит в додзе: броски и страховки, победы и поражения в практиках (тачиай, которые мы используем вместо соревновательных поединков) – все это носит скорее символический характер. В реальности основная задача, которую мы решаем, - это адекватная реакция человека на разнообразные жизненные обстоятельства. Таким образом, как и предполагает поговорка «победа в поражении» («макете катсу»), такие понятия окружающего мира как превосходство и подчинение, победа и поражение становятся неважны.
Удивительным образом, люди, которые достигли такого уровня реализации, рассматривают саму смерть просто как еще одно явление. Давайте рассмотрим пример китайского дзен-буддиста, монаха Букко, которых жил во времена Южной династии Сун (прим. 1127-1279). Он был приглашен бакуфу (правительством) Камакура и провел остаток своей жизни в Японии. Среди прочего, он стал участником монгольского конфликта и был пленен. Он уже готовился принять казнь, когда сочинил стихотворение в китайском стиле, содержащее ставшую впоследствии известной строфу «Denko eiri shunpu wo kiru», что можно примерно перевести как «Даже если вы отрубите мне голову, это будет иметь не больше эффекта, чем поглаживание весеннего бриза, что шепчет в полях». Очевидно, Тешу Ямаока назвал свое додзе Шунпукан (Зал весеннего бриза) по мотивам этого стихотворения. Очень светлое название, не так ли?
Все европейские экзистенциалисты 19 века, от Кьеркегора и Ницше до Ясперса, Хайдеггера и Сартра (который в конце концов ушел в атеистический экзистенциализм) – все искали основу человеческого существования / бытия на грани небытия. И вы легко сможете провести параллели между их изысканиями и философией дзен, которая тоже на протяжении тысячелетий искала способ адекватного ответа на иррациональность сущего. Тот факт, что два эти течения зародились в совершенно разных культурных контекстах, лишь подчеркивает общность мышления на каком-то очень глубинном уровне.
Конечно, западная и восточная цивилизации расходятся в целом ряде других вопросов. К примеру, восточная философия исходит из идеи единства души и тела, что в западной мысли явным образом не звучит. Это проявляется в восточных традиционных практиках: индийской йоге, магическом китайском даосизме, китайских боевых искусствах, в мисоги и прочих ритуальных практиках очищения в японском синтоизме и буддизме, медитации дзадзен и в японском будо, которое впитало в себя элементы этих традиционных течений.
Напротив, западная мысль, на мой взгляд, подчеркивает дуализм. Она исходит из того, что между духовным и физическим довольно мало общего, что делает эти концепции чисто спекулятивными. Очевидный пример разницы этих двух подходов можно найти в контрасте между скульптурой Родена «Мыслитель» и статуей бодхисаттвы, сидящего наполовину в позе лотоса, в храме Корю в Киото, которая считается изображением принца Сиддхартхи перед тем, как он достиг состояния будды. Разница подходов к размышлению становится предельно понятной, когда сравниваешь два этих произведения искусства.
Не поймите меня превратно: я не считаю, что восточная мысль в чем-то превосходит западную. В конце концов, со времен начала индустриальной революции в 1770-х именно чисто спекулятивный подход Запада лег в основу всех прикладных наук и полностью предопределил современный стиль жизни. С точки зрения истории человечества, сейчас как никогда нужно было бы объединить два этих подхода.
Это еще одна причина, по которой нам нужно очень серьезно отнестись к тому, как мы подходим к распространению и развитию айкидо.
Это искусство, рожденное из традиционного японского будо, несет в себе особые свойства, связывающие тело и душу, и поэтому должно быть корректно донесено до людей во всем мире.
Боюсь, что, если мы не справимся с таким корректным распространением айкидо, оно в итоге потеряет как корни, так и листья.
То же справедливо в отношении японского будо в целом. Я искренне полагаю, что, если бы задачей было лишь удовлетворение потребностей в физической тренировке, в будо не было бы необходимости. Спорт и около-спортивные занятия полностью справились бы с этой задачей. Но будо несет обществу гораздо больше, чем просто физическую тренировку. Мне кажется, нам нужно всерьез об этом задуматься.
Мне кажется, японское будо, и айкидо в том числе, обладает огромным скрытым потенциалом для того, чтобы остановить постепенное разрушение нашей свободы и независимости. Свобода личности страдает под влиянием множественных противоречий, привнесенных исключительным материализмом современного капиталистического общества, идеологией превосходства экономического процветания и излишним увлечением рационализмом. Будо предлагает способ вернуться к источнику человеческой свободы. Поэтому мне кажется, что нам нужно по-новому посмотреть на него и переоценить его именно с этой точки зрения.
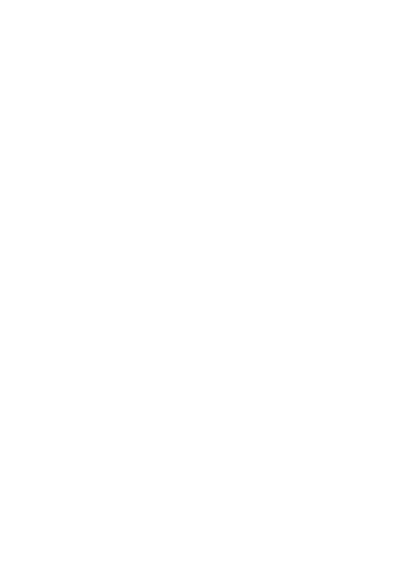
Казуо Чиба
Родился в 1940 году в Токио. 8 дан Айкидо Айкикай, шихан, профессиональный тренер Айкидо. Начал заниматься в Хомбу Додзе в качестве учидеши в 1958 году. В 1966 году переехал жить в Великобританию и создал там местную Федерацию Айкидо Айкикай. Вернувшись в 1976 году в Японию, он занял пост секретаря Хомбу Додзе, ответственного за международную работу, и играл активную роль в создании Международной федерации Айкидо. В 1981 году по приглашению коллег из США Чиба переехал в Сан-Диего, Калифорния, и создал Федерацию Айкикай Сан-Диего. Под руководством Чибы эта Федерация стала штаб-квартирой Западного отделения Федерации Айкидо США (позднее – Биранкай Северной Америки), организации, официально признанной Хомбу Додзе в Японии. Следующие 27 лет Чиба посвятил работе по продвижению айкидо в мире, проводил множество семинаров и создал для своих учеников полноценную программу подготовки инструкторов. В 2008 году, имея за плечами уже 50-летний опыт в айкидо, Чиба отошел от активных тренировок. Чиба-сэнсей скончался в 2015 году.
Родился в 1940 году в Токио. 8 дан Айкидо Айкикай, шихан, профессиональный тренер Айкидо. Начал заниматься в Хомбу Додзе в качестве учидеши в 1958 году. В 1966 году переехал жить в Великобританию и создал там местную Федерацию Айкидо Айкикай. Вернувшись в 1976 году в Японию, он занял пост секретаря Хомбу Додзе, ответственного за международную работу, и играл активную роль в создании Международной федерации Айкидо. В 1981 году по приглашению коллег из США Чиба переехал в Сан-Диего, Калифорния, и создал Федерацию Айкикай Сан-Диего. Под руководством Чибы эта Федерация стала штаб-квартирой Западного отделения Федерации Айкидо США (позднее – Биранкай Северной Америки), организации, официально признанной Хомбу Додзе в Японии. Следующие 27 лет Чиба посвятил работе по продвижению айкидо в мире, проводил множество семинаров и создал для своих учеников полноценную программу подготовки инструкторов. В 2008 году, имея за плечами уже 50-летний опыт в айкидо, Чиба отошел от активных тренировок. Чиба-сэнсей скончался в 2015 году.
